13548
5
Правда про женщин на войне, о которой не писали в газетах: «Доченька, я тебе собрала узелок. Уходи… Уходи… У тебя еще две младших сестры растут. Кто их замуж возьмет? Все знают, что ты четыре года была на фронте, с мужчинами…»

Правда про женщин на войне, о которой не писали в газетах…
Воспоминания женщин-ветеранов из книги Светланы Алексиевич «У войны – не женское лицо» – одной из самых знаменитых книг о Великой Отечественной, где война впервые показана глазами женщины. Книга переведена на 20 языков и включена в школьную и вузовскую программу:
-
- «Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. Остался раненый. «Не ходи, убьют, — не пускали меня бойцы, — видишь, уже светает». Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому: «Заслуживает награды». В девятнадцать лет у меня была медаль «За отвагу». В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги… И меня посчитали убитой… В девятнадцать лет… У меня внучка сейчас такая. Смотрю на нее — и не верю. Дите!»
- «И когда он появился третий раз, это же одно мгновенье — то появится, то скроется, — я решила стрелять. Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх… Ко мне иногда во сне и сейчас возвращается это ощущение… После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Я же его вижу в оптический прицел, хорошо вижу. Как будто он близко… И внутри у меня что-то противится… Что-то не дает, не могу решиться. Но я взяла себя в руки, нажала спусковой крючок… Не сразу у нас получилось. Не женское это дело — ненавидеть и убивать. Не наше… Надо было себя убеждать. Уговаривать…»

-
- «И девчонки рвались на фронт добровольно, а трус сам воевать не пойдет. Это были смелые, необыкновенные девчонки. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. В пехоте. Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Мы поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета. И батальона не стало. Все лежали. Они не были все убиты, много раненых. Немцы бьют, огня не прекращают. Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом — вторая, третья… Они стали перевязывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления. К часам десяти вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла максимум два-три человека. Награждали их скупо, в начале войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале войны его не хватало. Винтовку, автомат, пулемет — это тоже надо было тащить. В сорок первом был издан приказ номер двести восемьдесят один о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за пятнадцать тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием — медаль «За боевые заслуги», за спасение двадцати пяти человек — орден Красной Звезды, за спасение сорока — орден Красного Знамени, за спасение восьмидесяти — орден Ленина. А я вам описал, что значило спасти в бою хотя бы одного… Из-под пуль…»
- «Что в наших душах творилось, таких людей, какими мы были тогда, наверное, больше никогда не будет. Никогда! Таких наивных и таких искренних. С такой верой! Когда знамя получил наш командир полка и дал команду: «Полк, под знамя! На колени!», все мы почувствовали себя счастливыми. Стоим и плачем, у каждой слезы на глазах. Вы сейчас не поверите, у меня от этого потрясения весь мой организм напрягся, моя болезнь, а я заболела «куриной слепотой», это у меня от недоедания, от нервного переутомления случилось, так вот, моя куриная слепота прошла. Понимаете, я на другой день была здорова, я выздоровела, вот через такое потрясение всей души…»
- «Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стене. Потеряла сознание… Когда пришла в себя, был уже вечер. Подняла голову, попробовала сжать пальцы — вроде двигаются, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встречаю нашу старшую сестру, она не узнала меня, спросила: «Кто вы? Откуда?» Подошла ближе, ахнула и говорит: «Где тебя так долго носило, Ксеня? Раненые голодные, а тебя нет». Быстро перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, упала. Привели в сознание, и только слышится: «Скорей! Быстрей!» И опять — «Скорей! Быстрей!» Через несколько дней у меня еще брали для тяжелораненых кровь».

-
- «Мы же молоденькие совсем на фронт пошли. Девочки. Я за войну даже подросла. Мама дома померила… Я подросла на десять сантиметров…»
- «У нашей матери не было сыновей… А когда Сталинград был осажден, добровольно пошли на фронт. Все вместе. Вся семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени уже воевал…»
- «Меня мобилизовали, я была врач. Я уехала с чувством долга. А мой папа был счастлив, что дочь на фронте. Защищает Родину. Папа шел в военкомат рано утром. Он шел получать мой аттестат и шел рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте…»
- «Помню, отпустили меня в увольнение. Прежде чем пойти к тете, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю:
— Дайте мне конфет.
Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала: что такое — карточки, что такое — блокада? Все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю: «Когда я дорасту до этой винтовки?» И все вдруг стали просить, вся очередь:
— Дайте ей конфет. Вырежьте у нас талоны.
И мне дали».

-
- «И у меня впервые в жизни случилось… Наше… Женское… Увидела я у себя кровь, как заору:
— Меня ранило…
В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. Он ко мне:
— Куда ранило?
— Не знаю куда… Но кровь…
Мне он, как отец, все рассказал… Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься — зубы скрипят. Вспоминаешь — где ты? Там или здесь?» - «Уезжала я на фронт материалисткой. Атеисткой. Хорошей советской школьницей уехала, которую хорошо учили. А там… Там я стала молиться… Я всегда молилась перед боем, читала свои молитвы. Слова простые… Мои слова… Смысл один, чтобы я вернулась к маме и папе. Настоящих молитв я не знала, и не читала Библию. Никто не видел, как я молилась. Я — тайно. Украдкой молилась. Осторожно. Потому что… Мы были тогда другие, тогда жили другие люди. Вы — понимаете?»
- «Формы на нас нельзя было напастись: всегда в крови. Мой первый раненый — старший лейтенант Белов, мой последний раненый — Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода. В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и дочерям я показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного раненого. Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон… Таскали на себе мужчин, в два-три раза тяжелее нас. А раненые они еще тяжелее. Его самого тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь… Идешь за следующим, и опять семьдесят-восемьдесят килограммов… И так раз пять-шесть за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов — балетный вес. Сейчас уже не верится…»
- «И у меня впервые в жизни случилось… Наше… Женское… Увидела я у себя кровь, как заору:

-
- «Я потом стала командиром отделения. Все отделение из молодых мальчишек. Мы целый день на катере. Катер небольшой, там нет никаких гальюнов. Ребятам по необходимости можно через борт, и все. Ну, а как мне? Пару раз я до того дотерпелась, что прыгнула прямо за борт и плаваю. Они кричат: «Старшина за бортом!» Вытащат. Вот такая элементарная мелочь… Но какая это мелочь? Я потом лечилась…
- «Вернулась с войны седая. Двадцать один год, а я вся беленькая. У меня тяжелое ранение было, контузия, я плохо слышала на одно ухо. Мама меня встретила словами: «Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день и ночь». Брат на фронте погиб. Она плакала: «Одинаково теперь — рожай девочек или мальчиков».
- «А я другое скажу… Самое страшное для меня на войне — носить мужские трусы. Вот это было страшно. И это мне как-то… Я не выражусь… Ну, во-первых, очень некрасиво… Ты на войне, собираешься умереть за Родину, а на тебе мужские трусы. В общем, ты выглядишь смешно. Нелепо. Мужские трусы тогда носили длинные. Широкие. Шили из сатина. Десять девочек в нашей землянке, и все они в мужских трусах. О, Боже мой! Зимой и летом. Четыре года… Перешли советскую границу… Добивали, как говорил на политзанятиях наш комиссар, зверя в его собственной берлоге. Возле первой польской деревни нас переодели, выдали новое обмундирование и… И! И! И! Привезли в первый раз женские трусы и бюстгальтеры. За всю войну в первый раз. Ха-а-а… Ну, понятно… Мы увидели нормальное женское белье… Почему не смеешься? Плачешь… Ну, почему?»
.jpg)
-
- «В восемнадцать лет на Курской Дуге меня наградили медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды, в девятнадцать лет — орденом Отечественной войны второй степени. Когда прибывало новое пополнение, ребята были все молодые, конечно, они удивлялись. Им тоже по восемнадцать-девятнадцать лет, и они с насмешкой спрашивали: «А за что ты получила свои медали?» или «А была ли ты в бою?» Пристают с шуточками: «А пули пробивают броню танка?» Одного такого я потом перевязывала на поле боя, под обстрелом, я и фамилию его запомнила — Щеголеватых. У него была перебита нога. Я ему шину накладываю, а он у меня прощения просит: «Сестричка, прости, что я тебя тогда обидел…»
- «Ехали много суток… Вышли с девочками на какой-то станции с ведром, чтобы воды набрать. Оглянулись и ахнули: один за одним шли составы, и там одни девушки. Поют. Машут нам – кто косынками, кто пилотками. Стало понятно: мужиков не хватает, полегли они, в земле. Или в плену. Теперь мы вместо них… Мама написала мне молитву. Я положила ее в медальон. Может, и помогло – я вернулась домой. Я перед боем медальон целовала…»
- «Она заслонила от осколка мины любимого человека. Осколки летят – это какие-то доли секунды… Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю Бойчевского, она его любила. И он остался жить. Через тридцать лет Петя Бойчевский приехал из Краснодара и нашел меня на нашей фронтовой встрече, и все это мне рассказал. Мы съездили с ним в Борисов и разыскали ту поляну, где Тоня погибла. Он взял землю с ее могилы… Нес и целовал… Было нас пять, конаковских девчонок… А одна я вернулась к маме…»

-
- «И вот я командир орудия. И, значит, меня – в тысяча триста пятьдесят седьмой зенитный полк. Первое время из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное… Горло пересыхало до рвоты… Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что самолет прямо на тебя летит, именно на твое орудие. На тебя таранит! Это один миг… Сейчас он всю, всю тебя превратит ни во что. Все – конец!»
- «Пока он слышит… До последнего момента говоришь ему, что нет-нет, разве можно умереть. Целуешь его, обнимаешь: что ты, что ты? Он уже мертвый, глаза в потолок, а я ему что-то еще шепчу… Успокаиваю… Фамилии вот стерлись, ушли из памяти, а лица остались…»
- «У нас попала в плен медсестра… Через день, когда мы отбили ту деревню, везде валялись мертвые лошади, мотоциклы, бронетранспортеры. Нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана… Ее посадили на кол… Мороз, и она белая-белая, и волосы все седые. Ей было девятнадцать лет. В рюкзаке у нее мы нашли письма из дома и резиновую зеленую птичку. Детскую игрушку…»
- «Под Севском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых с их оружием. К последнему подползла, а у него рука совсем перебита. Болтается на кусочках… На жилах… В кровище весь… Ему нужно срочно отрезать руку, чтобы перевязать. Иначе никак. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка телепалась-телепалась на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла эту мякоть. Перегрызла, забинтовала… Бинтую, а раненый: “Скорей, сестра. Я еще повоюю”. В горячке…»

-
- «Я всю войну боялась, чтобы ноги не покалечило. У меня красивые были ноги. Мужчине – что? Ему не так страшно, если даже ноги потеряет. Все равно – герой. Жених! А женщину покалечит, так это судьба ее решится. Женская судьба…»
- «Мужчины разложат костер на остановке, трясут вшей, сушатся. А нам где? Побежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемся. У меня был свитерочек вязаный, так вши сидели на каждом миллиметре, в каждой петельке. Посмотришь, затошнит. Вши бывают головные, платяные, лобковые… У меня были они все…»
- «Мы стремились… Мы не хотели, чтобы о нас говорили: “Ах, эти женщины!” И старались больше, чем мужчины, мы еще должны были доказать, что не хуже мужчин. А к нам долго было высокомерное, снисходительное отношение: “Навоюют эти бабы…”»
- «Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я об одном загадывала – дожить бы до дня рождения, чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была!»

-
- «Идем… Человек двести девушек, а сзади человек двести мужчин. Жара стоит. Жаркое лето. Марш бросок – тридцать километров. Жара дикая… И после нас красные пятна на песке… Следы красные… Ну, дела эти… Наши… Как ты тут что спрячешь? Солдаты идут следом и делают вид, что ничего не замечают… Не смотрят под ноги… Брюки на нас засыхали, как из стекла становились. Резали. Там раны были, и все время слышался запах крови. Нам же ничего не выдавали… Мы сторожили: когда солдаты повесят на кустах свои рубашки. Пару штук стащим… Они потом уже догадывались, смеялись: “Старшина, дай нам другое белье. Девушки наше забрали”. Ваты и бинтов для раненых не хватало… А не то, что… Женское белье, может быть, только через два года появилось. В мужских трусах ходили и майках… Ну, идем… В сапогах! Ноги тоже сжарились. Идем… К переправе, там ждут паромы. Добрались до переправы, и тут нас начали бомбить. Бомбежка страшнейшая, мужчины – кто куда прятаться. Нас зовут… А мы бомбежки не слышим, нам не до бомбежки, мы скорее в речку. К воде… Вода! Вода! И сидели там, пока не отмокли… Под осколками… Вот оно… Стыд был страшнее смерти. И несколько девчонок в воде погибло…»
- «Мы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть голову. Если долго шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги… Ну, понимаете, травой смывали… Мы же свои особенности имели, девчонки… Армия об этом не подумала… Ноги у нас зеленые были… Хорошо, если старшина был пожилой человек и все понимал, не забирал из вещмешка лишнее белье, а если молодой, обязательно выбросит лишнее. А какое оно лишнее для девчонок, которым надо бывает два раза в день переодеться. Мы отрывали рукава от нижних рубашек, а их ведь только две. Это только четыре рукава…»
.jpg)
-
- «Как нас встретила Родина? Без рыданий не могу… Сорок лет прошло, а до сих пор щеки горят. Мужчины молчали, а женщины… Они кричали нам: “Знаем, чем вы там занимались! Завлекали молодыми п… наших мужиков. Фронтовые б… Сучки военные…” Оскорбляли по-всякому… Словарь русский богатый… Провожает меня парень с танцев, мне вдруг плохо-плохо, сердце затарахтит. Иду-иду и сяду в сугроб. “Что с тобой?” – “Да ничего. Натанцевалась”. А это – мои два ранения… Это – война… А надо учиться быть нежной. Быть слабой и хрупкой, а ноги в сапогах разносились – сороковой размер. Непривычно, чтобы кто-то меня обнял. Привыкла сама отвечать за себя. Ласковых слов ждала, но их не понимала. Они мне, как детские. На фронте среди мужчин – крепкий русский мат. К нему привыкла. Подруга меня учила, она в библиотеке работала: “Читай стихи. Есенина читай”».
- «Ноги пропали… Ноги отрезали… Спасали меня там же, в лесу… Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги… Положили на стол, и нет йода. За шесть километров в другой партизанский отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Без наркоза. Без… Вместо наркоза – бутылка самогонки. Ничего не было, кроме обычной пилы… Столярной… У нас был хирург, он сам тоже без ног, он говорил обо мне, это другие врачи передали: “Я преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но таких не видел. Не вскрикнет”. Я держалась… Я привыкла быть на людях сильной…»
- «Муж был старшим машинистом, а я машинистом. Четыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами. Он у меня за всю войну даже кошку не видел. Когда поймал под Киевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело пять самолетов, а он обнял ее: “Кисанька милая, как я рад, что я тебя увидел. Я не вижу никого, ну, посиди со мной. Дай я тебя поцелую”. Ребенок… У ребенка все должно быть детское… Он засыпал со словами: “Мамочка, у нас есть кошка. У нас теперь настоящий дом”».

-
- «Лежит на траве Аня Кабурова… Наша связистка. Она умирает – пуля попала в сердце. В это время над нами пролетает клин журавлей. Все подняли головы к небу, и она открыла глаза. Посмотрела: “Как жаль, девочки”. Потом помолчала и улыбнулась нам: “Девочки, неужели я умру?” В это время бежит наш почтальон, наша Клава, она кричит: “Не умирай! Не умирай! Тебе письмо из дома…” Аня не закрывает глаза, она ждет… Наша Клава села возле нее, распечатала конверт. Письмо от мамы: “Дорогая моя, любимая доченька…” Возле меня стоит врач, он говорит: “Это – чудо. Чудо!! Она живет вопреки всем законам медицины…” Дочитали письмо… И только тогда Аня закрыла глаза…»
- «Пробыла я у него один день, второй и решаю: “Иди в штаб и докладывай. Я с тобой здесь останусь”. Он пошел к начальству, а я не дышу: ну, как скажут, чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Это же фронт, это понятно. И вдруг вижу – идет в землянку начальство: майор, полковник. Здороваются за руку все. Потом, конечно, сели мы в землянке, выпили, и каждый сказал свое слово, что жена нашла мужа в траншее, это же настоящая жена, документы есть. Это же такая женщина! Дайте посмотреть на такую женщину! Они такие слова говорили, они все плакали. Я тот вечер всю жизнь вспоминаю…»
- «Под Сталинградом… Тащу я двух раненых. Одного протащу – оставляю, потом – другого. И так тяну их по очереди, потому что очень тяжелые раненые, их нельзя оставлять, у обоих, как это проще объяснить, высоко отбиты ноги, они истекают кровью. Тут минута дорога, каждая минута. И вдруг, когда я подальше от боя отползла, меньше стало дыма, вдруг я обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца… Я была в ужасе: там наши гибнут, а я немца спасаю. Я была в панике… Там, в дыму, не разобралась… Вижу: человек умирает, человек кричит… А-а-а… Они оба обгоревшие, черные. Одинаковые. А тут я разглядела: чужой медальон, чужие часы, все чужое. Эта форма проклятая. И что теперь? Тяну нашего раненого и думаю: “Возвращаться за немцем или нет?” Я понимала, что если я его оставлю, то он скоро умрет. От потери крови… И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих… Это же Сталинград… Самые страшные бои. Самые-самые… Не может быть одно сердце для ненависти, а второе – для любви. У человека оно одно».

- «Моя подруга… Не буду называть ее фамилии, вдруг обидится… Военфельдшер… Трижды ранена. Кончилась война, поступила в медицинский институт. Никого из родных она не нашла, все погибли. Страшно бедствовала, мыла по ночам подъезды, чтобы прокормиться. Но никому не признавалась, что инвалид войны и имеет льготы, все документы порвала. Я спрашиваю: “Зачем ты порвала?” Она плачет: “А кто бы меня замуж взял?” – “Ну, что же, – говорю, – правильно сделала”. Еще громче плачет: “Мне бы эти бумажки теперь пригодились. Болею тяжело”. Представляете? Плачет».
- «Это потом чествовать нас стали, через тридцать лет… Приглашать на встречи… А первое время мы таились, даже награды не носили. Мужчины носили, а женщины нет. Мужчины – победители, герои, женихи, у них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами. Совсем другими… У нас, скажу я вам, забрали победу… Победу с нами не разделили. И было обидно… Непонятно…»
- «Первая медаль “За отвагу”… Начался бой. Огонь шквальный. Солдаты залегли. Команда: “Вперед! За Родину!”, а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели: девчонка поднялась… И они все встали, и мы пошли в бой…»










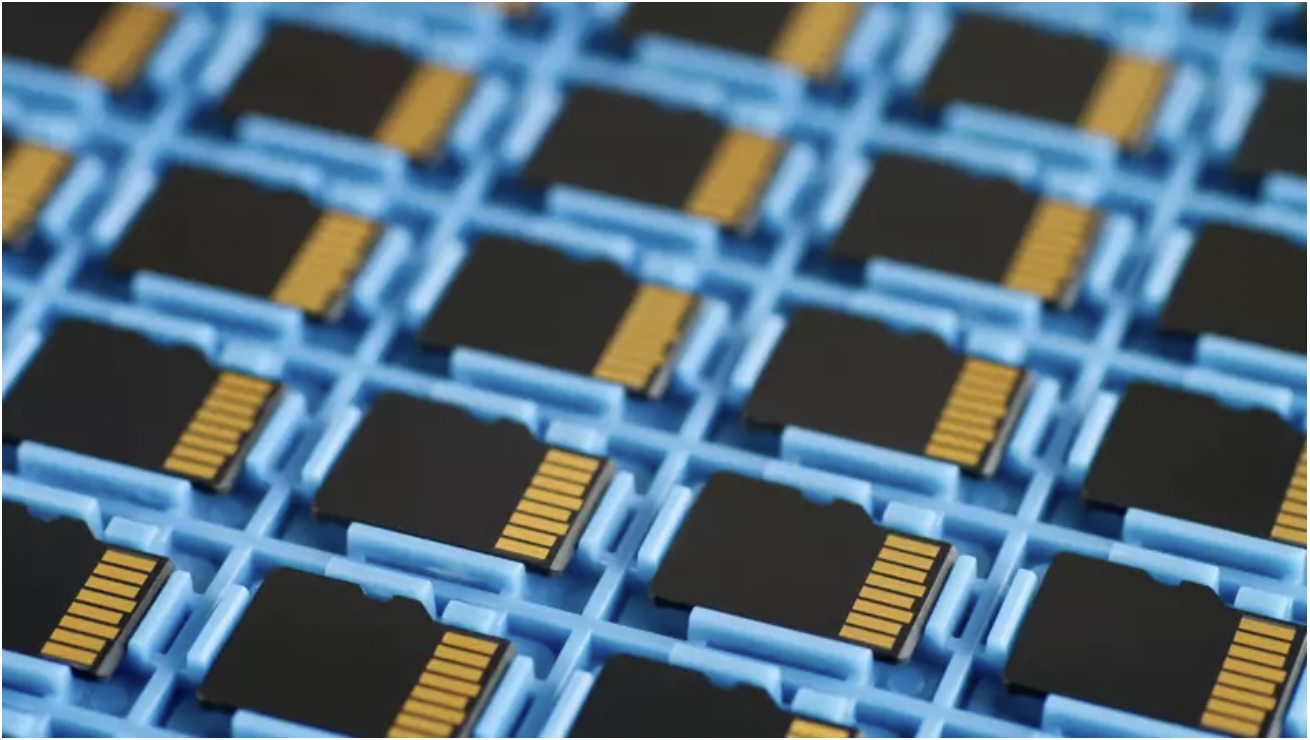














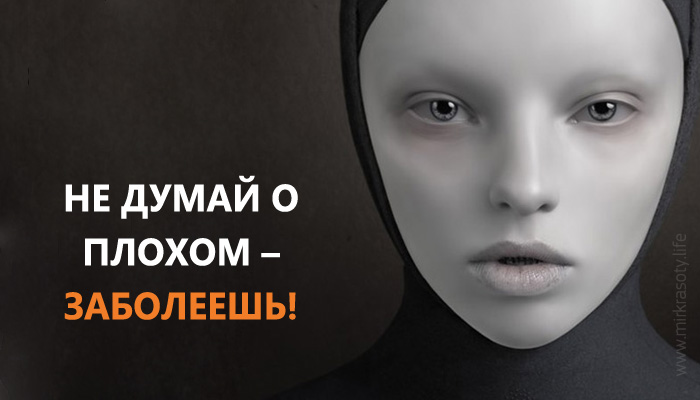
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?